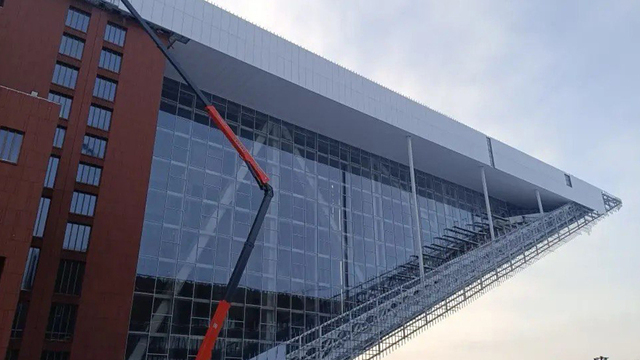С калининградским психологом Александрой Тарасовой мы побеседовали о мифах отношений и страхе одиночества, границах, боли и человеческой хрупкости.
Тревога — это нормальный механизм
— Александра, правда, что сегодня множество обращений к психологу связано с тревогой и страхом перед будущим?
— Да, последние четыре‑пять лет это наиболее частая тема. Раньше люди приходили с другими запросами, но сейчас тревога либо названа прямо, либо стоит за большинством проблем. Тревога сама по себе нормальна, это наш встроенный сигнал внимания. Человек живёт с постоянным чувством тревоги на протяжении сотен тысяч лет. Являясь некрупным всеядным существом, он подвергался угрозе быть пойманным крупными хищниками. И тревога была охранительным чувством, эволюционным способом не просто выжить, а развиваться и совершенствоваться. Поэтому воспринимать тревогу как абсолютный негатив неправильно.
Но когда тревога становится постоянным фоном, она искажает жизнь: слишком много неопределённости, новизны, слишком высокая скорость. Вот простой пример. Недавно у меня в соцсети был пост: «Вышла купить огурцы, в одной палатке - 768 рублей, через дорогу - 189. И как ориентироваться? Где правда?». Эта неопределённость - от цен до культурных норм - стала чересчур большой. Человеку нужна предсказуемость, та самая «квартира, где знаешь, где лежат ключи». А сейчас всё ускользает.
— Есть универсальные способы не дать тревоге прессовать себя?
— Ничего нового: биология у человека не поменялась за сотни лет. Нам нужны сон, отдых, забота о себе. Иногда консультация врача, потому что тревога может иметь медицинские причины. Но главное — фильтр на вход. Мы живём в переизбытке стимулов. Раньше, чтобы передать деньги, нужно было подняться, достать кошелёк, дойти до человека. Чтобы прибраться в доме — взять швабру.
Сейчас всё — в одном гаджете. Психика не различает эти процессы, хотя они разной сложности. Мы делаем одно и то же движение пальцем — запускаем робот‑пылесос, переводим деньги, проверяем погоду. Отсюда чувство постоянной перегрузки. А значит, необходима смена деятельности, движение, возвращение внимания к телу и к себе.
Родители особых детей: жизнь продолжается, несмотря ни на что
- — Вы много лет работали с семьями тяжело больных детей. Это было непростое решение?
- — Простым его не назвать. При том, что я всегда была человеком, который «причиняет добро». Уже взрослой пришла в благотворительный центр «Верю в чудо» как волонтёр‑водитель: возила палатки, кирпичи, что угодно. А потом попала в проект «Мираклион» и осталась. Тогда я работала руководителем транспортного предприятия, психология была где‑то глубоко спрятана. Но в благотворительности всё вернулось на круги своя. Мы придумывали игры, проводили пижамные вечеринки, просто были рядом с детьми и родителями. Со временем я пошла учиться гештальт-терапии — почувствовала, что хочу делать это профессионально. Семь лет вела подростковые программы, потом три года работала в хосписе. И могу сказать: подростки с онкологией и без неё переживают удивительно похожие вещи. Болезнь не отменяет задачи развития.
- — Как живут родители, знающие, что их ребёнок неизлечимо болен? Как помочь им сохранить опору и не впасть в отчаяние?
- — Они живут. Не ужасом, не ожиданием плохого. А день за днём. Неизлечимый диагноз — это не «сегодня сказали, завтра умер». Часто с ним живут долго. Но есть моменты, когда нужно говорить прямо. В хосписе мы пользовались пятью фразами: «Я тебя люблю», «Ты мне дорог», «Прости», «Я прощаю» и «До встречи» — потому что мы никогда не знаем, встретимся ли завтра, даже будучи здоровыми. Мы однажды писали методичку для родителей «Что делать, когда ребёнок умер». Звучит жёстко, но информированность даёт опору. Когда ты знаешь, куда звонить, какие документы нужны, кому сообщить, это снижает хаос, в котором люди оказываются. Бывают и трудные разговоры. Одна женщина, зная, что скоро уйдёт из жизни, озвучила, какая музыка должна звучать во время прощания, кого пригласить, даже какие должны быть бутерброды. Я записала это в ежедневник. Когда она умерла, её дочь не могла вспомнить ни слова. И эти записи стали инструкцией. Это звучит странно, но это огромная помощь родным — сделать так, как хотел близкий.
Здоровая любовь — спокойная
— Сейчас то и дело звучит модное слово «абьюз». Толкуют при этом на разные лады.
— Проблема в том, что люди используют одно слово, вкладывая в него разный смысл. Есть причиняющий боль, есть терпящий. Абьюзер, на мой взгляд, человек, не умеющий грамотно проживать негативные эмоции. Свою агрессию он может маскировать, например, в «незлые» шуточки. Из-за недоверия к себе мы часто склонны сглаживать острые углы и игнорировать тревожные сигналы. Плюс мы — нация, воспитанная на терпении. Наши зимы, наш «домострой», семейная система — всё про «терпеть». Уровень толерантности к насилию у нас высокий.
— От психологов часто можно услышать, что нормальная, здоровая любовь — спокойная и лишённая зависимости. Насколько это реально в действительности?
— Реально. Там, где есть доступность, предсказуемость и безопасность. Если я прихожу домой и знаю, что меня увидят и услышат, что можно говорить правду, — это и есть здоровые отношения. Но если в детстве дома было иначе: «Я скажу, а мама накричит», «Папа то ласковый, то грозный», вырастает человек, не имеющий представления о здоровых отношениях. Я как-то, зайдя вечером в подъезд, увидела сидящих на лестничной площадке детей. Выяснилось, что это мама выставила их из квартиры за какую-то провинность. Ситуация противоестественная, когда матерью нарушены все допустимые границы.
В терапии один из постулатов — научить человека видеть границы. Если на меня кричат, замахиваются — это опасно, нужно уходить. Но многие остаются. Потому что внутри живёт детская мысль: «Один я не выживу». Человек, границы которого нарушаются с детства, взрослеет с ощущением, что любовь — это качели. Тогда спокойствие воспринимается как отсутствие чувств, а токсичность как страсть. Люди просто не знают другого опыта.
Я работала с девушкой, которая с детства изо всех своих птенцовых сил старалась быть примерной сестрой, хорошей дочерью, прилежной студенткой, верным другом, в общем, достойным представителем общества. Но в глазах родителей всё было тщетно. И постепенно стала привыкать, что она, по её собственному выражению, человек-косяк. Ничего у неё не получалось, она привыкла терпеть и виниться. Ко мне на встречу девушка записалась под натиском острого приступа одиночества. А спустя некоторое время она рассталась со своим патологически ревнующим парнем. Сняла квартиру на деньги, которые зарабатывала уборкой в частном доме. Когда мы расставались, девушка сказала: «Знаешь, мне спокойно». Мне показалось, что в тот момент она встретилась с собой — и осталась довольна этой встречей.
Особенное ощущение
— Каковы, на ваш взгляд, особенности психологического склада калининградцев?
— Мы — второе или третье поколение переселенцев. Земля была чужой, разрушенной, и люди обживали её с осторожностью. Как в коммуналке: живёшь — а вдруг выселят? Это породило ощущение временности. Плюс долго регион был транзитным: сюда приезжали люди из Казахстана или Германии, жили немного и уезжали. Это влияет на культуру, на отношения. На то, как мы вкладываемся в быт, в дома, в улицы.
И география тоже влияет: мы замкнуты границами. Раньше можно было в любой момент сесть в машину и быть в Польше, Германии. Сейчас — резкий обрыв. Для региона с историей открытых границ это сильный психологический удар. И с этим нам предстоит учиться жить.
Справка «СК»
Александра Тарасова родилась в Минске. В 2001 г. закончила Калининградский государственный университет (сейчас БФУ им. Канта) по специальности «Педагогика и психология». В течение 13 лет руководила двумя транспортными компаниями. В благотворительном центре «Верю в чудо» 7 лет вела группы в реабилитации для подростков с онкологией, их родителей и волонтёров центра. В профессии постоянно с 2015 г. после завершения карьеры в транспортной сфере. Есть опыт работы в детском хосписе «Дом Фоупполо». С 2017 г. консультирует семьи с особенными детьми. Замужем, сыну 22 года.