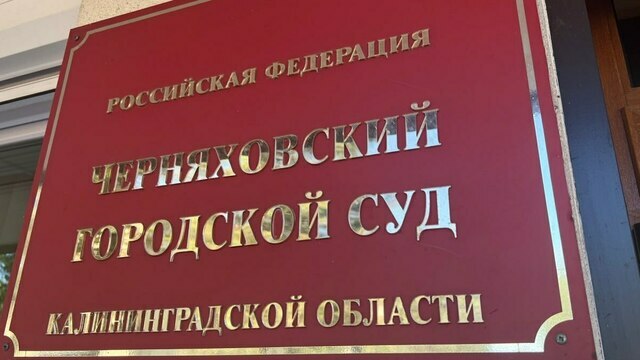Специальным гостем пятого немецко-российского фестиваля «Территория кино», проходившего недавно в Калининграде, был киновед, основатель и директор музея
С. Эйзенштейна и экс-директор Государственного музея кино в Москве Наум Клейман.
Своими мыслями о вчерашнем и сегодняшнем дне «важнейшего из искусств» он поделился с корреспондентом «Страны Калининград».
Хроника со второго дубля
– Наум Ихильевич, можно ли, на ваш взгляд, отождествлять неигровое кино, а именно ему был посвящен прошедший фестиваль, с документом?
– Само понятие документального кино для меня становится все более проблематичным. Первый же сюжет, снятый Люмьерами, — «Выход рабочих с фабрики» – оказался сыгранным. Все, что сняли Люмьеры, в том числе и «Завтрак младенца» и «Лодка выходит из порта», — все это фактически было прорепетировано, снято трижды-четырежды и выдано за документ. Также в качестве иллюстрации – съемки коронации Николая II, которые были сняты до того, как сама коронация прошла. Оказывается, это все была репетиция, снятая как хроника. А в годы Великой Отечественной войны если хроника опаздывала на взятие какого-нибудь города или деревни, то операторы просили солдат повторить пробег по тем самым улицам, которыми они под смертельным огнем пробежали некоторое время тому назад. И это потом выдавалось за хроникальные материалы.
– То есть истинных «слепков жизни» практически нет?
– Нам известны яркие примеры таких «слепков жизни». Достаточно вспомнить великолепного Роберта Флаэрти. Это, на мой взгляд, один из немногих «святых» в кино. В начале прошлого века он работал геологом и картографом в окрестностях Гудзонова залива. В 1913 году в одну из экспедиций взял с собой кинокамеру с намерением снять фильм о жизни эскимосов. Но во время монтажа негатив фильма сгорел от непотушенной сигареты. И несколько лет спустя он вернулся на Север и вторично снял свой легендарный фильм «Нанук с Севера». Фильм уже в те годы стал, как сказали бы сегодня, культовым. А на обложке мороженого, известного нам как эскимо, которое в те же годы появилось во Франции, поместили лицо главного героя фильма Нанука и написали «Эскимос Нанука». И мы до сих пор едим с вами эскимо, не подозревая, что это на самом деле пришло из документального кино.
Мнимость современности
– Согласны ли вы с таким тезисом, что среднестатистический «игровой» кинематограф сегодня рассчитан на плохо образованного подростка?
– Да, и это меня очень угнетает. На таком кино зарабатывают миллиарды. Их главный ложный довод: кино – это продукт. Выкачали из этого «продукта» деньги, и слава богу – они достигли своей цели, но не остались в истории. От этого коммерческого подхода до сих пор страдают люди, которые не имели коммерческого успеха. Например, тот же Роберт Флаэрти — один из самых великих кинематографистов мировой киноистории, которого, несмотря на успех «Нанука», вообще выкинули из кино. Это беда не только кинематографа, который настроен на оборот денег. Это беда общества, которое не извлекает из кинематографа тех уроков, которые оно могло бы извлечь.
– Где же та грань между «поп-корновым» кино, которым заполнены наши кинотеатры, и арт-хаусом?
– Очень сложный вопрос. Сегодня нам кажется, что это шедевр, а время показывает, что это времянка. Я очень не люблю быть в жюри и оценивать увиденные фильмы. В последнее время я стал от этого отказываться, потому что все больше понимаю, насколько определены временем наши оценки.
Единственно, что, на мой взгляд, невозможно принять, это спекуляцию на политике, на сиюминутных проблемах, когда конструируется мнимая декорация современности. Я вспоминаю, что нас когда-то заставляли всей школой ходить на фильмы «Сталинградская битва» или «Падение Берлина» и нам говорили, что это и есть чудо кино-искусства. Но время доказало мнимость этих установок. Лучшее жюри – это история!
Экранизация классику упрощает
– В последние годы появляется много экранизаций классики. Насколько они удачны, на ваш взгляд?
– Как правило, экранизации являются, не хочу сказать, что вульгаризацией, но сильным упрощением классики, а если говорить откровенно, паразитированием на ней. Очень редко экранизация поднимается на уровень оригинала. Зачастую кино извлекает из сложного литературного сюжета одну ниточку, и нам предъявляют суррогат классики. Вытащив из «Войны и мира» любовную историю Наташи Ростовой, создатели фильма делают нечто, имеющее косвенное отношение к замыслу Льва Толстого.
Нередко авторы киноклассики используют имидж суперпопулярного актера или актрисы. Многие люди считают, что идеальная Наташа Ростова воплощена Одри Хёпберн. Одри – замечательная актриса. Но представить себе Хёпберн располневшей, раздобревшей Наташей, которая воспитывает своих детей, просто невозможно. Образы Толстого объемны и многовалентны, а каждый исполнитель обыгрывает лишь одну из граней. Или образ Анны Карениной. Грета Гарбо – великая звезда. Но при этом она вытянула только одну, свою тему страдалицы от несчастной любви. Алла Тарасова играла тему освобождения женщины от нелюбимого мужа и лицемерного общества. Татьяна Самойлова как Анна не просто моложе – она внутренне более страстная и свободная. Новые фильмы с Кирой Найтли и Татьяной Друбич – они неожиданные и интересные, но и они не отражают всю палитру романа.
Лично меня по-настоящему вдохновляет пример из творческого наследия двух друзей, двух прямых учеников Сергея Эйзенштейна, замечательных режиссеров Владимира Венгерова и Михаила Швейцера. Первый снял «Живой труп» и «Обрыв», второй экранизировал «Воскресение», «Маленькие трагедии» и «Мертвые души». Хотя вообще в экранизациях есть одна безусловная польза: после успешно прошедших в прокате фильмов со «звездами» или телевизионных сериалов люди начинают читать классические произведения.
– А какой кинематограф близок лично вам?
– Мне ближе всего кино моей молодости. А это – 1960-е годы. Я думаю, что эстетика, которая сложилась в те годы, в годы «оттепели», она еще вернется, поскольку не исчерпала себя.
Справка «СК»
Наум Клейман родился в 1937 г. в Кишиневе. В 1961 г. окончил киноведческий факультет ВГИКа. Один из крупнейших специалистов по творчеству С. Эйзенштейна. Заслуженный деятель искусств РФ. C 1988 г. преподает
на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 г. избран членом Европейской Киноакадемии (EFA). Награжден Орденом литературы и искусства (Франция, 1992) и медалью им. Гёте (Германия, 1995). Кавалер ордена Восходящего солнца за вклад в развитие культурных связей между Россией и Японией (2005). Лауреат премий Международной ассоциации кинокритиков FIPRESCI за составление ретроспективы «Неизвестное советское кино».
В 1993–1997 гг. – автор и ведущий телепрограмм «Музей кино», «Шедевры немого кино», «Сокровища старого кино». Автор сценария и продюсер фильма «Дом мастера» (1998). ТЭФИ присудила за него приз «Орфей» как лучшей документальной картине. С 1992 по 2014 г. – директор Государственного центрального Музея кино. В 2015 г. удостоен премии «Ника» «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».
С. Эйзенштейна и экс-директор Государственного музея кино в Москве Наум Клейман.
Своими мыслями о вчерашнем и сегодняшнем дне «важнейшего из искусств» он поделился с корреспондентом «Страны Калининград».
Хроника со второго дубля
– Наум Ихильевич, можно ли, на ваш взгляд, отождествлять неигровое кино, а именно ему был посвящен прошедший фестиваль, с документом?
– Само понятие документального кино для меня становится все более проблематичным. Первый же сюжет, снятый Люмьерами, — «Выход рабочих с фабрики» – оказался сыгранным. Все, что сняли Люмьеры, в том числе и «Завтрак младенца» и «Лодка выходит из порта», — все это фактически было прорепетировано, снято трижды-четырежды и выдано за документ. Также в качестве иллюстрации – съемки коронации Николая II, которые были сняты до того, как сама коронация прошла. Оказывается, это все была репетиция, снятая как хроника. А в годы Великой Отечественной войны если хроника опаздывала на взятие какого-нибудь города или деревни, то операторы просили солдат повторить пробег по тем самым улицам, которыми они под смертельным огнем пробежали некоторое время тому назад. И это потом выдавалось за хроникальные материалы.
– То есть истинных «слепков жизни» практически нет?
– Нам известны яркие примеры таких «слепков жизни». Достаточно вспомнить великолепного Роберта Флаэрти. Это, на мой взгляд, один из немногих «святых» в кино. В начале прошлого века он работал геологом и картографом в окрестностях Гудзонова залива. В 1913 году в одну из экспедиций взял с собой кинокамеру с намерением снять фильм о жизни эскимосов. Но во время монтажа негатив фильма сгорел от непотушенной сигареты. И несколько лет спустя он вернулся на Север и вторично снял свой легендарный фильм «Нанук с Севера». Фильм уже в те годы стал, как сказали бы сегодня, культовым. А на обложке мороженого, известного нам как эскимо, которое в те же годы появилось во Франции, поместили лицо главного героя фильма Нанука и написали «Эскимос Нанука». И мы до сих пор едим с вами эскимо, не подозревая, что это на самом деле пришло из документального кино.
Мнимость современности
– Согласны ли вы с таким тезисом, что среднестатистический «игровой» кинематограф сегодня рассчитан на плохо образованного подростка?
– Да, и это меня очень угнетает. На таком кино зарабатывают миллиарды. Их главный ложный довод: кино – это продукт. Выкачали из этого «продукта» деньги, и слава богу – они достигли своей цели, но не остались в истории. От этого коммерческого подхода до сих пор страдают люди, которые не имели коммерческого успеха. Например, тот же Роберт Флаэрти — один из самых великих кинематографистов мировой киноистории, которого, несмотря на успех «Нанука», вообще выкинули из кино. Это беда не только кинематографа, который настроен на оборот денег. Это беда общества, которое не извлекает из кинематографа тех уроков, которые оно могло бы извлечь.
– Где же та грань между «поп-корновым» кино, которым заполнены наши кинотеатры, и арт-хаусом?
– Очень сложный вопрос. Сегодня нам кажется, что это шедевр, а время показывает, что это времянка. Я очень не люблю быть в жюри и оценивать увиденные фильмы. В последнее время я стал от этого отказываться, потому что все больше понимаю, насколько определены временем наши оценки.
Единственно, что, на мой взгляд, невозможно принять, это спекуляцию на политике, на сиюминутных проблемах, когда конструируется мнимая декорация современности. Я вспоминаю, что нас когда-то заставляли всей школой ходить на фильмы «Сталинградская битва» или «Падение Берлина» и нам говорили, что это и есть чудо кино-искусства. Но время доказало мнимость этих установок. Лучшее жюри – это история!
Экранизация классику упрощает
– В последние годы появляется много экранизаций классики. Насколько они удачны, на ваш взгляд?
– Как правило, экранизации являются, не хочу сказать, что вульгаризацией, но сильным упрощением классики, а если говорить откровенно, паразитированием на ней. Очень редко экранизация поднимается на уровень оригинала. Зачастую кино извлекает из сложного литературного сюжета одну ниточку, и нам предъявляют суррогат классики. Вытащив из «Войны и мира» любовную историю Наташи Ростовой, создатели фильма делают нечто, имеющее косвенное отношение к замыслу Льва Толстого.
Нередко авторы киноклассики используют имидж суперпопулярного актера или актрисы. Многие люди считают, что идеальная Наташа Ростова воплощена Одри Хёпберн. Одри – замечательная актриса. Но представить себе Хёпберн располневшей, раздобревшей Наташей, которая воспитывает своих детей, просто невозможно. Образы Толстого объемны и многовалентны, а каждый исполнитель обыгрывает лишь одну из граней. Или образ Анны Карениной. Грета Гарбо – великая звезда. Но при этом она вытянула только одну, свою тему страдалицы от несчастной любви. Алла Тарасова играла тему освобождения женщины от нелюбимого мужа и лицемерного общества. Татьяна Самойлова как Анна не просто моложе – она внутренне более страстная и свободная. Новые фильмы с Кирой Найтли и Татьяной Друбич – они неожиданные и интересные, но и они не отражают всю палитру романа.
Лично меня по-настоящему вдохновляет пример из творческого наследия двух друзей, двух прямых учеников Сергея Эйзенштейна, замечательных режиссеров Владимира Венгерова и Михаила Швейцера. Первый снял «Живой труп» и «Обрыв», второй экранизировал «Воскресение», «Маленькие трагедии» и «Мертвые души». Хотя вообще в экранизациях есть одна безусловная польза: после успешно прошедших в прокате фильмов со «звездами» или телевизионных сериалов люди начинают читать классические произведения.
– А какой кинематограф близок лично вам?
– Мне ближе всего кино моей молодости. А это – 1960-е годы. Я думаю, что эстетика, которая сложилась в те годы, в годы «оттепели», она еще вернется, поскольку не исчерпала себя.
Справка «СК»
Наум Клейман родился в 1937 г. в Кишиневе. В 1961 г. окончил киноведческий факультет ВГИКа. Один из крупнейших специалистов по творчеству С. Эйзенштейна. Заслуженный деятель искусств РФ. C 1988 г. преподает
на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В 1993 г. избран членом Европейской Киноакадемии (EFA). Награжден Орденом литературы и искусства (Франция, 1992) и медалью им. Гёте (Германия, 1995). Кавалер ордена Восходящего солнца за вклад в развитие культурных связей между Россией и Японией (2005). Лауреат премий Международной ассоциации кинокритиков FIPRESCI за составление ретроспективы «Неизвестное советское кино».
В 1993–1997 гг. – автор и ведущий телепрограмм «Музей кино», «Шедевры немого кино», «Сокровища старого кино». Автор сценария и продюсер фильма «Дом мастера» (1998). ТЭФИ присудила за него приз «Орфей» как лучшей документальной картине. С 1992 по 2014 г. – директор Государственного центрального Музея кино. В 2015 г. удостоен премии «Ника» «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».
Наум Клейман: «Беда общества в том, что оно не извлекает из кинематографа уроков, которые могло бы извлечь. И довод, что кино это продукт, ложный»